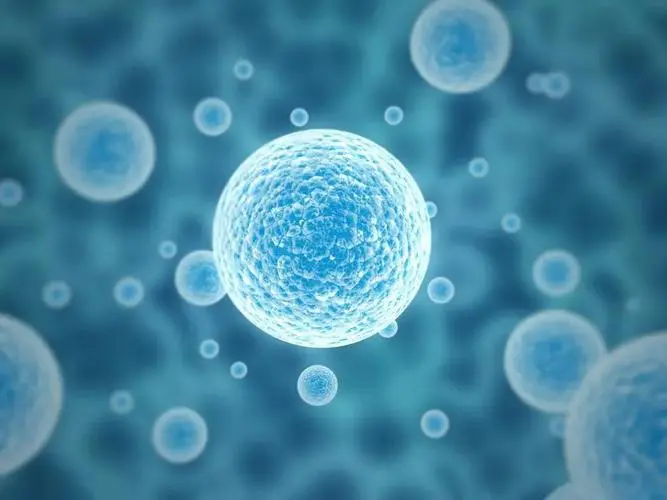Кислородная терапия является одним из наиболее распространенных методов в современной медицине, однако до сих пор существуют ошибочные представления о показаниях к применению кислородной терапии, а неправильное использование кислорода может вызвать серьезные токсические реакции.
Клиническая оценка тканевой гипоксии
Клинические проявления тканевой гипоксии разнообразны и неспецифичны, наиболее выраженными симптомами являются диспноэ, одышка, тахикардия, дыхательная недостаточность, быстрые изменения психического состояния и аритмия. Для определения наличия тканевой (висцеральной) гипоксии полезны сывороточный лактат (повышен при ишемии и сниженном сердечном выбросе) и SvO2 (снижен при сниженном сердечном выбросе, анемии, артериальной гипоксемии и высоком уровне метаболизма). Однако лактат может быть повышен и в негипоксических условиях, поэтому диагноз не может быть поставлен исключительно на основании повышения лактата, поскольку лактат может быть повышен также при условиях повышенного гликолиза, таких как быстрый рост злокачественных опухолей, ранний сепсис, метаболические нарушения и введение катехоламинов. Также важны другие лабораторные показатели, указывающие на специфическую дисфункцию органа, такие как повышенный креатинин, тропонин или печеночные ферменты.
Клиническая оценка состояния артериальной оксигенации
Цианоз. Цианоз обычно является симптомом поздней стадии гипоксии и часто ненадёжен для диагностики гипоксемии и гипоксии, поскольку может отсутствовать при анемии и нарушении кровоснабжения, а людям с тёмной кожей сложно обнаружить цианоз.
Мониторинг пульсовой оксиметрии. Неинвазивный пульсовой оксиметрический мониторинг широко используется для мониторинга всех заболеваний, а его расчетная SaO2 называется SpO2. Принцип пульсовой оксиметрии основан на законе Билла, который гласит, что концентрация неизвестного вещества в растворе может быть определена по поглощению им света. При прохождении света через любую ткань большая его часть поглощается элементами ткани и кровью. Однако с каждым ударом сердца артериальная кровь подвергается пульсирующему току, что позволяет пульсовому оксиметрическому монитору обнаруживать изменения в поглощении света на двух длинах волн: 660 нанометров (красный) и 940 нанометров (инфракрасный). Скорость поглощения восстановленного и оксигенированного гемоглобина различна на этих двух длинах волн. После вычитания поглощения непульсирующих тканей можно рассчитать концентрацию оксигенированного гемоглобина относительно общего гемоглобина.
Существуют некоторые ограничения для мониторинга пульсовой оксиметрии. Любое вещество в крови, поглощающее эти длины волн, может влиять на точность измерений, включая приобретенные гемоглобинопатии - карбоксигемоглобин и метгемоглобинемию, метиленовый синий и некоторые генетические варианты гемоглобина. Поглощение карбоксигемоглобина на длине волны 660 нанометров аналогично поглощению оксигенированного гемоглобина; Очень мало поглощения на длине волны 940 нанометров. Поэтому, независимо от относительной концентрации гемоглобина, насыщенного оксидом углерода, и гемоглобина, насыщенного кислородом, SpO2 останется постоянным (90%~95%). При метгемоглобинемии, когда гемовое железо окисляется до двухвалентного состояния, метгемоглобин выравнивает коэффициенты поглощения двух длин волн. Это приводит к тому, что SpO2 варьируется только в диапазоне от 83% до 87% в относительно широком диапазоне концентраций метгемоглобина. В этом случае для измерения содержания кислорода в артериальной крови требуются четыре длины волн света, чтобы различить четыре формы гемоглобина.
Мониторинг пульсовой оксиметрии основан на достаточном пульсирующем кровотоке; Поэтому мониторинг пульсовой оксиметрии не может использоваться при шоковой гипоперфузии или при использовании непульсирующих желудочковых вспомогательных устройств (где сердечный выброс составляет лишь малую часть сердечного выброса). При тяжелой трикуспидальной регургитации концентрация дезоксигемоглобина в венозной крови высока, и пульсация венозной крови может привести к низким показаниям сатурации крови кислородом. При тяжелой артериальной гипоксемии (SaO2 < 75 %) точность также может снизиться, поскольку этот метод никогда не был валидирован в этом диапазоне. Наконец, все больше людей понимают, что мониторинг пульсовой оксиметрии может переоценивать сатурацию артериального гемоглобина до 5-10 процентных пунктов, в зависимости от конкретного устройства, используемого людьми с более темной кожей.
PaO2/FIO2. Соотношение PaO2/FIO2 (обычно называемое соотношением P/F, варьируется от 400 до 500 мм рт. ст.) отражает степень нарушения кислородного обмена в легких и наиболее полезно в данном контексте, поскольку искусственная вентиляция легких позволяет точно установить FIO2. Соотношение AP/F менее 300 мм рт. ст. указывает на клинически значимые нарушения газообмена, тогда как соотношение P/F менее 200 мм рт. ст. — на тяжелую гипоксемию. Факторы, влияющие на соотношение P/F, включают параметры вентиляции, положительное давление в конце выдоха и FIO2. Влияние изменений FIO2 на соотношение P/F варьируется в зависимости от характера повреждения легких, фракции шунта и диапазона изменений FIO2. При отсутствии PaO2 SpO2/FIO2 может служить разумным альтернативным индикатором.
Разница парциального давления кислорода в альвеолярной и артериальной крови (Aa PO2). Дифференциальное давление кислорода в альвеолярной и артериальной крови — это разница между рассчитанным парциальным давлением кислорода в альвеолярной и измеренным парциальным давлением кислорода в артериальной крови, используемая для измерения эффективности газообмена.
«Нормальная» разница Aa PO2 при дыхании окружающим воздухом на уровне моря варьируется с возрастом в пределах от 10 до 25 мм рт. ст. (2,5 + 0,21 x возраст [лет]). Вторым влияющим фактором является FIO2 или PAO2. Если любой из этих двух факторов увеличивается, разница в Aa PO2 также увеличится. Это связано с тем, что газообмен в альвеолярных капиллярах происходит в более плоской части (наклоне) кривой диссоциации гемоглобина с кислородом. При одинаковой степени венозного смешивания разница в PO2 между смешанной венозной кровью и артериальной кровью увеличится. Напротив, если альвеолярное PO2 низкое из-за недостаточной вентиляции или большой высоты, разница Aa будет ниже нормы, что может привести к недооценке или неточной диагностике легочной дисфункции.
Индекс оксигенации (ИО) может использоваться у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, для оценки необходимой интенсивности вентиляционной поддержки для поддержания оксигенации. Он включает среднее давление в дыхательных путях (СДВП, см вод. ст.), FIO2 и PaO2 (мм рт. ст.) или SpO2. Если индекс превышает 40, его можно использовать в качестве стандарта для экстракорпоральной мембранной оксигенации. Нормальное значение менее 4 см вод. ст./мм рт. ст.; ввиду единообразия значения см вод. ст./мм рт. ст. (1,36), единицы измерения обычно не включаются в расчёт этого соотношения.
Показания к острой кислородной терапии
При затрудненном дыхании обычно требуется оксигенотерапия до постановки диагноза гипоксемии. При парциальном давлении кислорода в артериальной крови (PaO2) ниже 60 мм рт. ст. наиболее явным признаком потребления кислорода является артериальная гипоксемия, которая обычно соответствует насыщению артериальной крови кислородом (SaO2) или периферической крови кислородом (SpO2) от 89% до 90%. При падении PaO2 ниже 60 мм рт. ст. насыщение крови кислородом может резко снизиться, что приводит к значительному снижению содержания кислорода в артериальной крови и потенциально может вызвать гипоксию тканей.
В дополнение к артериальной гипоксемии, в редких случаях может потребоваться дополнительное введение кислорода. Тяжелая анемия, травмы и хирургические критические пациенты могут уменьшить тканевую гипоксию за счет повышения уровня артериального кислорода. У пациентов с отравлением угарным газом (CO) дополнительное введение кислорода может увеличить содержание растворенного кислорода в крови, заменить CO, связанный с гемоглобином, и увеличить долю оксигенированного гемоглобина. После вдыхания чистого кислорода период полураспада карбоксигемоглобина составляет 70-80 минут, тогда как период полураспада при вдыхании окружающего воздуха составляет 320 минут. В условиях гипербарической оксигенации период полураспада карбоксигемоглобина сокращается до менее 10 минут после вдыхания чистого кислорода. Гипербарический кислород обычно используется в ситуациях с высоким уровнем карбоксигемоглобина (>25%), ишемией сердца или сенсорными нарушениями.
Несмотря на отсутствие подтверждающих данных или неточность данных, кислородная терапия может быть полезна и при других заболеваниях. Кислородная терапия широко применяется при кластерной головной боли, кризе серповидноклеточной анемии, купировании респираторного дистресса без гипоксемии, пневмотораксе и эмфиземе средостения (способствуя абсорбции воздуха в грудной клетке). Имеются данные, свидетельствующие о том, что интраоперационное повышение уровня кислорода может снизить частоту инфекций в месте операции. Однако, по всей видимости, кислородная терапия неэффективно снижает послеоперационную тошноту/рвоту.
С расширением возможностей амбулаторного обеспечения кислородом увеличивается и применение длительной кислородной терапии (ДКТ). Стандарты применения длительной кислородной терапии уже достаточно чёткие. Длительная кислородная терапия широко применяется при хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
Два исследования пациентов с гипоксемической ХОБЛ предоставляют поддерживающие данные для LTOT. Первое исследование было исследованием ночной оксигенотерапии (NOTT), проведенным в 1980 году, в котором пациенты были случайным образом распределены либо на ночную (не менее 12 часов), либо на непрерывную оксигенотерапию. Через 12 и 24 месяца пациенты, которые получают только ночную оксигенотерапию, имеют более высокий уровень смертности. Вторым экспериментом было исследование Medical Research Council Family, проведенное в 1981 году, в котором пациенты были случайным образом разделены на две группы: те, кто не получал кислород, и те, кто получал кислород не менее 15 часов в день. Подобно тесту NOTT, уровень смертности в анаэробной группе был значительно выше. Испытуемыми обоих исследований были некурящие пациенты, которые получали максимальное лечение и имели стабильное состояние с PaO2 ниже 55 мм рт. ст., или пациенты с полицитемией или легочно-сердечной недостаточностью с PaO2 ниже 60 мм рт. ст.
Эти два эксперимента показывают, что оксигенотерапия более 15 часов в сутки лучше, чем полное отсутствие кислорода, а непрерывная кислородная терапия лучше, чем лечение только ночью. Критерии включения в эти исследования служат основой для разработки рекомендаций по длительной кислородной терапии (ДОК) современными медицинскими страховыми компаниями и ATS. Можно предположить, что ДОК также допускается при других гипоксических сердечно-сосудистых заболеваниях, однако в настоящее время отсутствуют соответствующие экспериментальные данные. Недавнее многоцентровое исследование не выявило различий во влиянии кислородной терапии на смертность или качество жизни пациентов с ХОБЛ с гипоксемией, не соответствующей критериям покоя или вызванной только физической нагрузкой.
Врачи иногда назначают ночную кислородную терапию пациентам с выраженным снижением сатурации крови кислородом во время сна. В настоящее время нет чётких данных в пользу применения этого подхода у пациентов с обструктивным апноэ сна. Для пациентов с обструктивным апноэ сна или синдромом ожирения-гипопноэ, приводящим к затрудненному ночному дыханию, основным методом лечения является неинвазивная вентиляция лёгких с положительным давлением, а не кислородная терапия.
Другой вопрос, который следует рассмотреть, — это необходимость подачи кислорода во время авиаперелета. Большинство коммерческих самолетов обычно повышают давление в салоне до высоты, эквивалентной 8000 футам, с напряжением вдыхаемого кислорода приблизительно 108 мм рт. ст. У пациентов с заболеваниями легких снижение напряжения вдыхаемого кислорода (PiO2) может вызвать гипоксемию. Перед поездкой пациенты должны пройти комплексное медицинское обследование, включая анализ газового состава артериальной крови. Если PaO2 у пациента на земле ≥ 70 мм рт. ст. (SpO2>95%), то его PaO2 во время полета, вероятно, превысит 50 мм рт. ст., что обычно считается достаточным для минимальной физической активности. Для пациентов с низким SpO2 или PaO2 можно рассмотреть 6-минутный тест ходьбы или тест с имитацией гипоксии, обычно с вдыханием 15% кислорода. Если во время авиаперелета возникает гипоксемия, можно вводить кислород через носовую канюлю для увеличения поступления кислорода.
Биохимическая основа кислородного отравления
Кислородная токсичность обусловлена образованием активных форм кислорода (АФК). АФК – это свободные радикалы кислорода с неспаренным орбитальным электроном, которые могут реагировать с белками, липидами и нуклеиновыми кислотами, изменяя их структуру и вызывая повреждение клеток. В процессе нормального метаболизма митохондрий небольшое количество АФК вырабатывается в качестве сигнальной молекулы. Иммунные клетки также используют АФК для уничтожения патогенов. К АФК относятся супероксид, перекись водорода (H₂O₂) и гидроксильные радикалы. Избыток АФК неизменно превышает защитные функции клеток, приводя к их гибели или повреждению.
Чтобы ограничить повреждение, вызванное образованием активных форм кислорода (АФК), антиоксидантный защитный механизм клеток нейтрализует свободные радикалы. Супероксиддисмутаза преобразует супероксид в H₂O₂, который затем каталаза и глутатионпероксидаза превращают его в H₂O и O₂. Глутатион – важная молекула, ограничивающая повреждение, вызванное АФК. К другим антиоксидантным молекулам относятся альфа-токоферол (витамин E), аскорбиновая кислота (витамин C), фосфолипиды и цистеин. В лёгочной ткани человека содержится большое количество внеклеточных антиоксидантов и изоферментов супероксиддисмутазы, что делает её менее токсичной при воздействии более высоких концентраций кислорода по сравнению с другими тканями.
Повреждение лёгких, вызванное гипероксией и опосредованное активными формами кислорода (ROS), можно разделить на две стадии. Первая фаза – экссудативная, характеризующаяся гибелью альвеолярных эпителиальных клеток 1-го типа и эндотелиальных клеток, интерстициальным отёком и заполнением альвеол экссудативными нейтрофилами. Затем следует фаза пролиферации, во время которой эндотелиальные клетки и эпителиальные клетки 2-го типа размножаются и покрывают ранее обнажённую базальную мембрану. Для периода восстановления после кислородного повреждения характерны пролиферация фибробластов и интерстициальный фиброз, однако эндотелий капилляров и альвеолярный эпителий сохраняют практически нормальный вид.
Клинические проявления легочной кислородной токсичности
Уровень воздействия, при котором наступает токсичность, пока неясен. При FIO2 менее 0,5 клиническая токсичность, как правило, не проявляется. Ранние исследования на людях показали, что воздействие почти 100% кислорода может вызывать сенсорные нарушения, тошноту и бронхит, а также снижать ёмкость лёгких, диффузионную способность лёгких, комплайнс лёгких, PaO2 и pH. Другие проблемы, связанные с кислородной токсичностью, включают абсорбционный ателектаз, кислород-индуцированную гиперкапнию, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и неонатальную бронхолёгочную дисплазию (БЛД).
Абсорбционный ателектаз. Азот — инертный газ, который очень медленно диффундирует в кровоток по сравнению с кислородом, тем самым поддерживая расширение альвеол. При использовании 100% кислорода, из-за превышения скорости поглощения кислорода над скоростью подачи свежего газа, дефицит азота может привести к коллапсу альвеол в областях с низким соотношением альвеолярной вентиляции и перфузии (V/Q). Анестезия и паралич, особенно во время хирургических операций, могут привести к снижению остаточной функции легких, способствуя коллапсу мелких дыхательных путей и альвеол, что приводит к быстрому развитию ателектаза.
Гиперкапния, индуцированная кислородом. Пациенты с тяжёлой ХОБЛ склонны к тяжёлой гиперкапнии при воздействии высоких концентраций кислорода в период ухудшения состояния. Механизм развития этой гиперкапнии заключается в подавлении способности гипоксемии стимулировать дыхание. Однако у каждого пациента в разной степени задействованы два других механизма.
Гипоксемия у пациентов с ХОБЛ является результатом низкого альвеолярного парциального давления кислорода (PAO2) в области низкого V/Q. Чтобы минимизировать влияние этих областей низкого V/Q на гипоксемию, две реакции легочного кровообращения – гипоксическая легочная вазоконстрикция (ГЛВ) и гиперкапническая легочная вазоконстрикция – перенаправляют кровоток в хорошо вентилируемые области. Когда подача кислорода увеличивает PAO2, ГЛВ значительно снижается, увеличивая перфузию в этих областях, что приводит к областям с низким V/Q. Эти ткани легких теперь богаты кислородом, но обладают слабой способностью выводить CO2. Увеличенная перфузия этих тканей легких происходит за счет потери областей с лучшей вентиляцией, которые не могут высвобождать большое количество CO2, как раньше, что приводит к гиперкапнии.
Другая причина — ослабление эффекта Холдейна, что означает, что по сравнению с насыщенной кислородом кровью, дезоксигенированная кровь может переносить больше CO2. При дезоксигенации гемоглобин связывает больше протонов (H+) и CO2 в форме аминоэфиров. По мере снижения концентрации дезоксигемоглобина во время оксигенотерапии буферная емкость CO2 и H+ также снижается, что ослабляет способность венозной крови транспортировать CO2 и приводит к повышению PaCO2.
При подаче кислорода пациентам с хронической задержкой CO2 или пациентам группы высокого риска, особенно в случае выраженной гипоксемии, крайне важно точно регулировать FIO2 для поддержания SpO2 в диапазоне 88–90%. Многочисленные клинические случаи свидетельствуют о том, что отсутствие регуляции O2 может привести к неблагоприятным последствиям; рандомизированное исследование, проведенное с участием пациентов с острым обострением ХОБЛ по пути в больницу, неоспоримо это доказало. По сравнению с пациентами без ограничения кислорода, у пациентов, которым случайным образом назначалась дополнительная оксигенотерапия для поддержания SpO2 в диапазоне 88–92%, наблюдалась значительно более низкая смертность (7% против 2%).
ОРДС и БЛД. Давно известно, что кислородное отравление связано с патофизиологией ОРДС. У млекопитающих, кроме человека, воздействие 100% кислорода может привести к диффузному повреждению альвеол и, в конечном итоге, к смерти. Однако точные признаки кислородного отравления у пациентов с тяжёлыми заболеваниями лёгких трудно отличить от повреждений, вызванных фоновыми заболеваниями. Кроме того, многие воспалительные заболевания могут вызывать повышение уровня антиоксидантной защиты. Поэтому в большинстве исследований не удалось выявить корреляцию между чрезмерным воздействием кислорода и острым повреждением лёгких или ОРДС.
Болезнь гиалиновых мембран легких – это заболевание, вызванное дефицитом поверхностно-активных веществ, характеризующееся коллапсом альвеол и воспалением. Недоношенным новорожденным с болезнью гиалиновых мембран обычно требуется ингаляция высоких концентраций кислорода. Кислородная интоксикация считается одним из основных факторов патогенеза БЛД, даже у новорожденных, не нуждающихся в искусственной вентиляции легких. Новорожденные особенно подвержены повреждению кислородом, вызванному высоким уровнем кислорода, поскольку их клеточные антиоксидантные защитные функции еще не полностью развиты и не созрели. Ретинопатия недоношенных – это заболевание, связанное с повторяющимся стрессом гипоксии/гипероксии, и этот эффект был подтвержден при ретинопатии недоношенных.
Синергетический эффект легочной кислородной токсичности
Существует несколько препаратов, которые могут усиливать кислородную токсичность. Кислород увеличивает количество активных форм кислорода, продуцируемых блеомицином, и инактивирует блеомицингидролазу. У хомяков высокое парциальное давление кислорода может усугубить повреждение легких, вызванное блеомицином, и в отчетах о случаях также описан ОРДС у пациентов, получавших лечение блеомицином и подвергавшихся воздействию высокого FIO2 в периоперационный период. Однако проспективное исследование не смогло продемонстрировать связь между воздействием высокой концентрации кислорода, предшествующим воздействием блеомицина и тяжелой послеоперационной легочной дисфункцией. Паракват — коммерческий гербицид, который также является усилителем кислородной токсичности. Поэтому при работе с пациентами с отравлением паракватом и воздействием блеомицина следует максимально минимизировать FIO2. Другие препараты, которые могут усугубить кислородную токсичность, включают дисульфирам и нитрофурантоин. Дефицит белка и питательных веществ может привести к значительному повреждению кислорода, что может быть вызвано недостатком тиолсодержащих аминокислот, которые имеют решающее значение для синтеза глутатиона, а также недостатком антиоксидантных витаминов А и Е.
Кислородная токсичность в других системах органов
Гипероксия может вызывать токсические реакции на органы за пределами легких. Большое многоцентровое ретроспективное когортное исследование показало связь между повышенной смертностью и высоким уровнем кислорода после успешной сердечно-легочной реанимации (СЛР). Исследование показало, что у пациентов с PaO2 более 300 мм рт. ст. после СЛР коэффициент риска внутрибольничной смертности составлял 1,8 (95% ДИ, 1,8–2,2) по сравнению с пациентами с нормальным содержанием кислорода в крови или гипоксемией. Причиной повышенной смертности является ухудшение функции центральной нервной системы после остановки сердца, вызванной опосредованным ROS высококислородным реперфузионным повреждением. Недавнее исследование также описало повышенную смертность у пациентов с гипоксемией после интубации в отделении неотложной помощи, что тесно связано со степенью повышенного PaO2.
У пациентов с черепно-мозговой травмой и инсультом оксигенотерапия без гипоксемии, по-видимому, не приносит пользы. Исследование, проведённое в травматологическом центре, показало, что у пациентов с черепно-мозговой травмой, получавших оксигенотерапию с высоким содержанием кислорода (PaO2>200 мм рт. ст.), по сравнению с пациентами с нормальным уровнем кислорода в крови, наблюдался более высокий уровень смертности и более низкий индекс комы Глазго при выписке. Другое исследование пациентов, получавших гипербарическую оксигенацию, показало неблагоприятный неврологический прогноз. В крупном многоцентровом исследовании оксигенотерапия пациентов с острым инсультом без гипоксемии (сатурация более 96%) не оказывала положительного влияния на смертность или функциональный прогноз.
При остром инфаркте миокарда (ОИМ) кислородная терапия является широко используемым методом лечения, однако её ценность для таких пациентов до сих пор остаётся спорной. Кислород необходим при лечении пациентов с острым инфарктом миокарда с сопутствующей гипоксемией, поскольку может спасти жизнь. Однако преимущества традиционной кислородной терапии при отсутствии гипоксемии пока не ясны. В конце 1970-х годов в двойном слепом рандомизированном исследовании было включено 157 пациентов с неосложнённым острым инфарктом миокарда. Кислородная терапия (6 л/мин) сравнивалась с отсутствием кислородной терапии. Было обнаружено, что у пациентов, получавших кислородную терапию, чаще встречалась синусовая тахикардия и выраженное повышение уровня миокардиальных ферментов, однако разницы в уровне смертности не наблюдалось.
У пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST без гипоксемии оксигенотерапия через назальные канюли со скоростью 8 л/мин неэффективна по сравнению с вдыханием окружающего воздуха. В другом исследовании с ингаляцией кислорода со скоростью 6 л/мин и вдыханием окружающего воздуха не было выявлено разницы в показателях смертности в течение 1 года и повторных госпитализаций среди пациентов с острым инфарктом миокарда. Контроль сатурации крови кислородом в диапазоне от 98% до 100% и от 90% до 94% неэффективен у пациентов с остановкой сердца вне больницы. Потенциальные вредные эффекты высокого уровня кислорода при остром инфаркте миокарда включают сужение коронарных артерий, нарушение распределения микроциркуляторного кровотока, увеличение функционального кислородного шунта, снижение потребления кислорода и увеличение повреждения ROS в зоне успешной реперфузии.
Наконец, клинические испытания и метаанализы исследовали соответствующие целевые значения SpO2 для госпитализированных пациентов в критическом состоянии. Одноцентровое открытое рандомизированное исследование, сравнивающее консервативную кислородную терапию (целевой показатель SpO2 94%~98%) с традиционной терапией (значение SpO2 97%~100%), было проведено на 434 пациентах отделения интенсивной терапии. Уровень смертности в отделении интенсивной терапии среди пациентов, случайным образом распределенных для получения консервативной кислородной терапии, улучшился, с более низкими показателями шока, печеночной недостаточности и бактериемии. Последующий метаанализ включил 25 клинических испытаний, в которых было набрано более 16000 госпитализированных пациентов с различными диагнозами, включая инсульт, травму, сепсис, инфаркт миокарда и экстренную операцию. Результаты этого метаанализа показали, что у пациентов, получавших консервативные стратегии кислородной терапии, был повышен уровень внутрибольничной смертности (относительный риск 1,21; 95% ДИ 1,03–1,43).
Однако два последующих крупномасштабных исследования не смогли продемонстрировать какого-либо влияния консервативных стратегий кислородной терапии на количество дней без ИВЛ у пациентов с заболеваниями легких или на 28-дневную выживаемость у пациентов с ОРДС. Недавнее исследование 2541 пациента, получающих ИВЛ, показало, что целевая подача кислорода в трех различных диапазонах SpO2 (88%~92%, 92%~96%, 96%~100%) не влияла на такие исходы, как дни выживаемости, смертность, остановка сердца, аритмия, инфаркт миокарда, инсульт или пневмоторакс без ИВЛ в течение 28 дней. Основываясь на этих данных, руководящие принципы Британского торакального общества рекомендуют целевой диапазон SpO2 от 94% до 98% для большинства взрослых госпитализированных пациентов. Это вполне разумно, поскольку SpO2 в этом диапазоне (с учётом погрешности пульсоксиметров ±2–3%) соответствует диапазону PaO2 от 65 до 100 мм рт. ст., что является безопасным и достаточным для обеспечения уровня кислорода в крови. Для пациентов с риском гиперкапнической дыхательной недостаточности более безопасным является диапазон от 88 до 92%, позволяющий избежать гиперкапнии, вызванной O2.
Время публикации: 13 июля 2024 г.